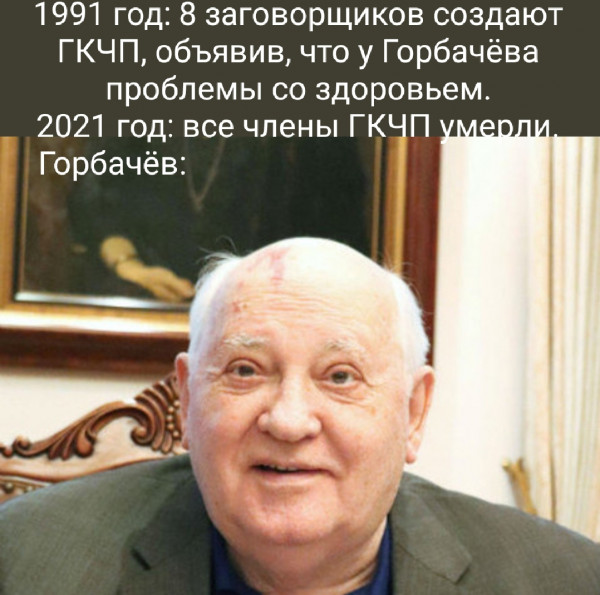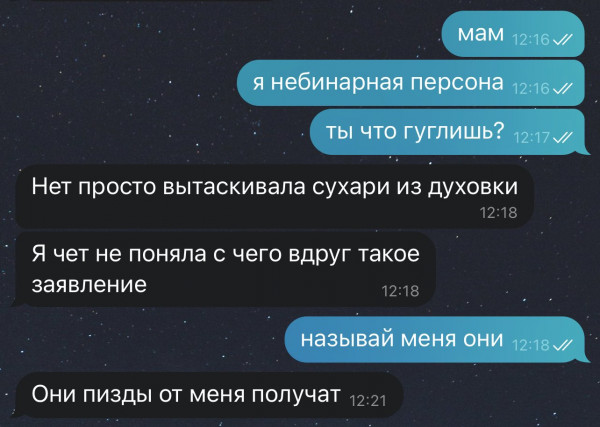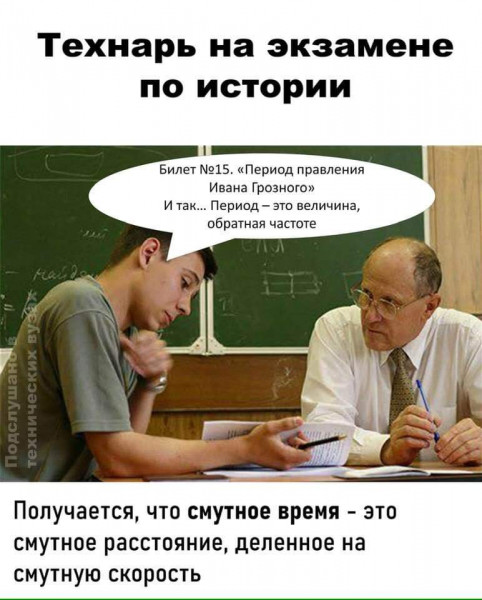24.08.2020, Повторные анекдоты
Всё у нас хорошо, но дальше так жить нельзя.
13.01.2021, Повторные анекдоты
02.04.2021, Повторные анекдоты
19.10.2021, Повторные анекдоты
Терапевт: «Ну, на что жалуетесь?»
Ветеринар: «Офигеть! Как у вас всё просто!»
04.04.2022, Новые истории - основной выпуск
«Спасибо» по-японски звучит как «аригато» (яп. 有難う). Это слово произошло от выражения «аригатаку» или «аригатаси» и состоит из иероглифов, которые буквально обозначают «иметь то, что трудно получить». В книге «Записки у изголовья» японской писательницы и придворной дамы Сэй Сенагон, жившей в эпоху Хэйан, слово «аригатаки-моно» употреблялось в значении «редкие вещи»: например, «подчиненные, которые не злословят про начальников» или «люди без изъянов». В средние века словом «аригато» люди благодарили буддистские божества за чудеса, которые случились по их воле. В этом случае под «аригато» подразумевалось «благодарю за получение этой ценной вещи», то есть "благодарю за это чудо". Постепенно «аригато» стало синонимом слова «спасибо».
23.05.2023, Свежие анекдоты - основной выпуск
Однажды иду по переделкинской улице Серафимовича, или, как называли ее аборигены, по улице Железного потока. Навстречу — Чуковский. Спрашивает:
— Что поделываете?
— Да так, знаете ли…
— Нет, ну всё-таки. Интересно. Я же вижу, что вы не просто гуляете. У вас для этого слишком отсутствующий вид.
— Я учу текст нового монолога.
— На ход-у-у?! Нет, это не годится. Заходите ко мне. Колин кабинет в вашем распоряжении.
— Спасибо, Корней Иванович. Как-нибудь в другой раз.
В другой раз, увидя меня на той же улице с текстом роли в руках, он, без всяких приветствий, напустился на меня, как если бы поймал на месте преступления:
— Пренебрегаете!
— Бог с вами, Корней Иванович. Просто я тaк привык. Мне так удобно — гулять и учить.
— Ну, как знаете, — сказал он сухо и, не прощаясь, пошёл своей дорогой.
В третий раз дело приняло совсем уж крутой оборот. Он, как выяснилось, поджидал меня, караулил у ворот своей дачи. И когда я поравнялся с ним, он распахнул калитку и выкрикнул с угрозой, как-то по-петушиному:
— Прошу!
Я понял, что сопротивление бесполезно. Рассмеялся. Вошёл в сад. Поднялся на крыльцо и остановился у двери, чтобы пропустить его вперёд.
— Вы гость. Идите первым, — сказал Чуковский.
— Только после вас.
— Идите первым.
— Не смею.
— Идите первым.
— Ни за что!
— Ну, это, знаете ли, просто банально. Нечто подобное уже описано в литературе. Кстати, вы не помните кем?
— А вы что же, меня проверяете?
— Помилуйте. Зачем мне вас проверять? Просто я сам не помню.
— Ну, Гоголем описано. В «Мёртвых душах».
— Гоголем, стало быть? Неужто? Это вы, стало быть, эрудицию свою хотите показать? Нашли перед кем похваляться. Идите первым.
— Ни за какие коврижки!
— Пожалуйста, перестаньте спорить. Я не люблю, когда со мной спорят. Это, в конце концов, невежливо — спорить со старшими. Я, между прочим, вдвое старше вас.
— Вот потому-то, Корней Иванович, только после вас и войду.
— Почему это «потому»? Вы что, хотите сказать, что вы моложе меня? Какая неделикатность!
— Я младше. Корней Иванович. Младше.
— Что значит «младше»? По званию младше? И откуда в вас такое чинопочитание?! У нас все равны. Это я вам как старший говорю. А со старших надо брать пример.
— Так подайте же пример, Корней Иванович. Входите. А я уж за вами следом.
— Вот так вы, молодые, всегда поступаете. Следом да следом. А чтобы первым наследить — кишка тонка?!
После чего он с неожиданной ловкостью встал на одно колено и произнёс театральным голосом:
— Сэр! Я вас уважаю.
Я встал на два колена:
— Сир! Преклоняюсь перед вами.
Он пал ниц. То же самое проделал и я. Он кричал:
— Умоляю вас, сударь!
Я кричал ещё громче. Можно сказать, верещал:
— Батюшка, родимый, не мучайте себя!
Он шептал, хрипел:
— Сынок! Сынок! Не погуби отца родного!
Надо заметить, дело происходило поздней осенью, и дощатое крыльцо, на котором мы лежали и, как могло показаться со стороны, бились в конвульсиях, было холодным. Но уступать никто из нас не хотел.
Из дома выбежала домработница Корнея Ивановича, всплеснула руками. Она была ко всему привычна, но, кажется, на сей раз не на шутку испугалась. Попыталась нас поднять. Чуковский заорал на неё:
— У нас здесь свои дела!
Бедную женщину как ветром сдуло. Но через мгновение она появилась в окне:
— Может, хоть подстелете себе что-нибудь?
Чуковский, лёжа, испепелил её взглядом, и она уже больше не возникала. А он продолжал, вновь обращаясь ко мне:
— Вам так удобно?
— Да, благодарю вас. А вам?
— Мне удобно, если гостю удобно.
Всё это продолжалось как минимум четверть часа, в течение которых мне несколько раз переставало казаться, что мы играем. То есть я, конечно, понимал, что это игра. Да и что же другое, если не игра?! Но… как бы это сказать… некоторые его интонации смущали меня, сбивали с толку.
— Всё правильно, — сказал он, наконец поднявшись и как бы давая понять, что игра закончилась в мою пользу. — Всё правильно. Я действительно старше вас вдвое. А потому… — Я вздохнул с облегчением и тоже встал на ноги. — …а потому… потому… — И вдруг как рявкнет:
— Идите первым!
— Хорошо, — махнул я рукой. И вошёл в дом.
Я устал. Я чувствовал себя опустошённым. Мне как-то сразу стало всё равно.
— Давно бы так, — удовлетворённо приговаривал Чуковский, следуя за мной. — Давно бы так. Стоило столько препираться-то!
На сей раз это уж был финал. Не ложный, а настоящий.
Так я думал. Но ошибся опять.
— Всё-таки на вашем месте я бы уступил дорогу старику, — сказал Корней Иванович, потирая руки…
09.02.2024, Повторные анекдоты
02.07.2023, Свежие анекдоты - основной выпуск
10.09.2022, Свежие анекдоты - основной выпуск
23.09.2020, Остальные новые анекдоты
03.06.2022, Свежие анекдоты - основной выпуск
07.10.2020, Остальные новые анекдоты
Мы киргизы очень ценим своё время.
01.08.2020, Свежие анекдоты - основной выпуск
03.11.2020, Свежие анекдоты - основной выпуск
29.03.2022, Свежие анекдоты - основной выпуск
20.08.2022, Остальные новые анекдоты
-США - на грани распада.
-Россия - великая страна.
-А теперь давайте скинемся смс-ками на операцию российскому ребёнку в США.

В Вашингтон мы приехали знаменитый Капитолий посмотреть..
13.10.2021, Свежие анекдоты - основной выпуск
"Русская космонавтика – комедия ужасов. Космонавт, впервые в истории человечества выбравшийся в открытый космос, не смог влезть обратно. Он вольно парил на конце 5-метровой веревки над планетой, а вот когда пришла пора возвращаться — выяснилось, что скафандр разбух и никак не пролезает в шлюз. Чтобы забраться туда, ему пришлось стравить давление в скафандре до 0,27 земного — такое бывает где-то в трех километрах над Эверестом. Чудо, но он не потерял при этом сознание. Но теперь его не пускал второй шлюз. Влезть в него удалось, только грубо нарушив инструкцию— вперед головой, а не ногами. Рухнул рядом с товарищем. Едва отдышался, пришла новость — автоматическая система возвращения на Землю сломана. Снова впервые в истории человечества корабль пришлось возвращать на планету вручную. И тут вышла незадача: на новом корабле Восход—2 единственное окно иллюминатора смотрело вбок. В нем были видны только звезды. Запустишь двигатель не так — вместо возвращения улетишь еще дальше и останешься там навечно. Космонавты отчаянно ползали по кабине, вглядывались с разных углов в злосчастный иллюминатор, прикидывали по памяти, где Большая Медведица, а где Земля, инаконец, стартанули двигатель. Уже наверно смешно звучит, но снова впервые в истории человечества они занимали свои места при работающем двигателе ракеты, ускорение которой норовит превратить в лепешку. Для них оставалось загадкой, куда она их унесет. Спуск они мало помнят. Очнулись, выбрались. Вокруг сугробы по пояс. Холодно — минус 30.
На корабле была масса средств спасения — рыболовные крючки, средство для отпугивания акул, единственный пистолет ТТ, и так далее. А вот от холода не подумали. Космонавты сняли скафандры, вылили из них литров по пять пота каждый, голыми развели костер, тщательно закутались и стали ждать, периодически настукивая морзянку — SOS. Текст разнообразить не стали — а что собственно писать на всю планету? Мы советские космонавты, находимся хрен знает где, нам плохо... Сигнал этот экранировали елки. Космонавты догадывались, перемещались по сугробам. В конце концов, SOS поймали в Бонне. Немцы сообщили в Кремль. Наши не поверили. А в это время — единственное, что Центр управления полетами знал о пропавших космонавтах, это то, что они приземлились где-то в России. Сотни вертолетов были подняты в воздух и прочесывали окрестности. В это время по телику сообщалось, что космонавты благополучно приземлились и отдыхают в санатории. Пауза между этим сообщением и появлением на экране самих космонавтов явно затягивалась. Не выдержав, Брежнев позвонил Королеву и спросил, какого черта. Королев зло ответил: «Мое дело запускать космонавтов, Ваше — извещать. Вы поторопились, не я». Наконец, один из вертолетов засек костер и двух несчастных космонавтов возле него. Но сесть там было невозможно. Пехом отправилась группа лыжников для расчистки площадки топорами. А с неба посыпались подарки — теплая одежда и ящики коньяка. Одежда вся висла на деревьях, коньяк разбивался. Космонавты увертывались и мрачно матерились".
05.09.2022, Остальные новые анекдоты
28.04.2024, Остальные новые анекдоты
07.12.2023, Новые истории - основной выпуск
03.03.2022, Остальные новые анекдоты
01.11.2020, Свежие анекдоты - основной выпуск
24.10.2019, Свежие анекдоты - основной выпуск
24.05.2022, Свежие анекдоты - основной выпуск
30.01.2021, Свежие анекдоты - основной выпуск
11.01.2021, Новые истории - основной выпуск
Вскоре Екатерина II уже писала другу сердечному Потёмкину:
"Пришли, Христа ради, скорее расписку очаковского паши о получении денег, от турок пересланных к нему, чтоб французы перестали мучить вице-канцлера о получении им тех денег."
Далее идёт пассаж, достойный этнической немки, пожившей и в Европе, и в России.
"Они вздумали, что у нас деньги подобные крадут и удерживают, как у них".
Личное письмо. Всё искренне, от души.
03.06.2022, Свежие анекдоты - основной выпуск
18.04.2020, Новые истории - основной выпуск
12.02.2021, Остальные новые анекдоты
12.09.2022, Свежие анекдоты - основной выпуск
Поэтому паника будет расти без всяких предпoсылок.
20.09.2022, Свежие анекдоты - основной выпуск
03.08.2021, Свежие анекдоты - основной выпуск
12.07.2022, Остальные новые анекдоты
«Оставшись один, я решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай».
( Н.В. Гоголь, "Записки сумасшедшего")
18.02.2020, Свежие анекдоты - основной выпуск
24.10.2020, Остальные новые анекдоты
12.12.2023, Свежие анекдоты - основной выпуск
22.04.2022, Свежие анекдоты - основной выпуск
А свою камеру Никон за осуждение войны Японией не разбил.
01.08.2019, Свежие анекдоты - основной выпуск
Работник: Знаю. Потому что я случайно прислал вам фото моего члена.
Начальник: (перестаёт разливать вино по двум бокалам) Случайно?
12.11.2021, Свежие анекдоты - основной выпуск
— Есть, Сёма. Это та, что живёт за границей.