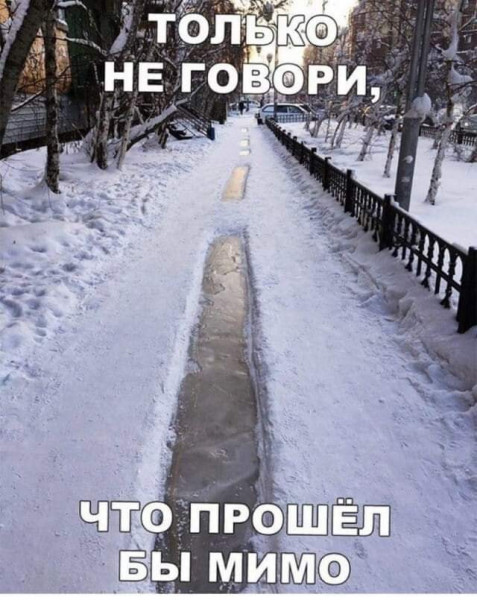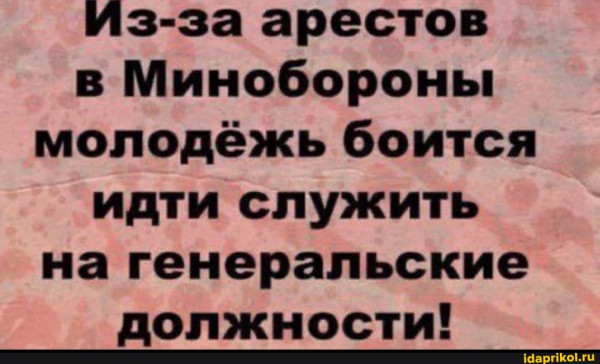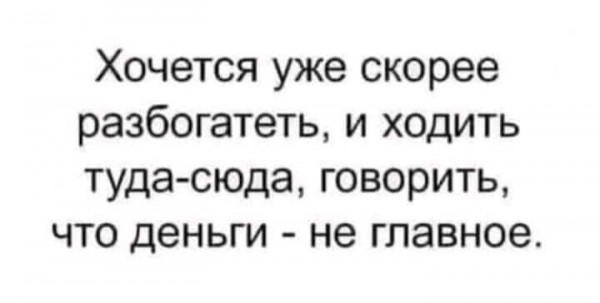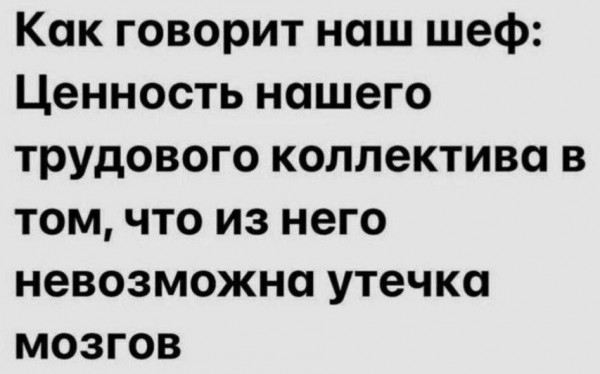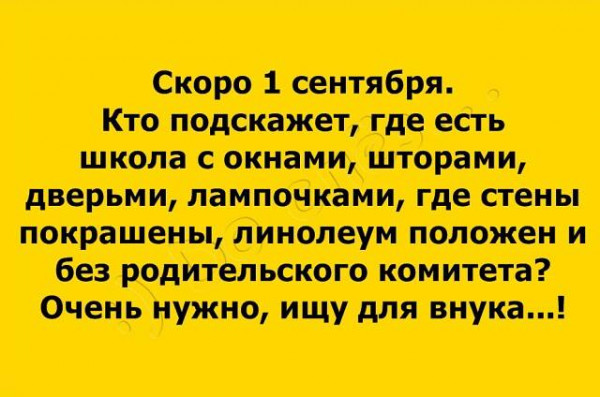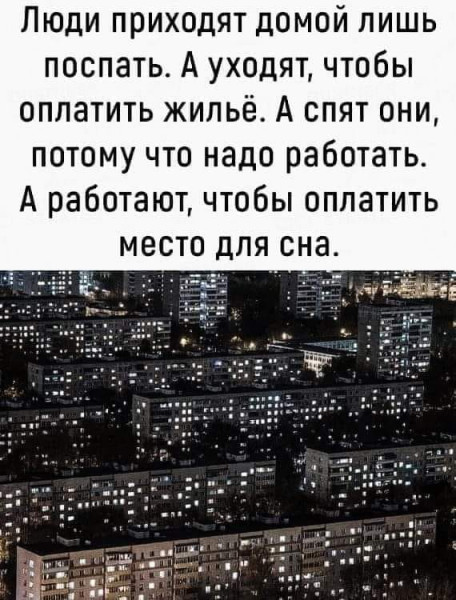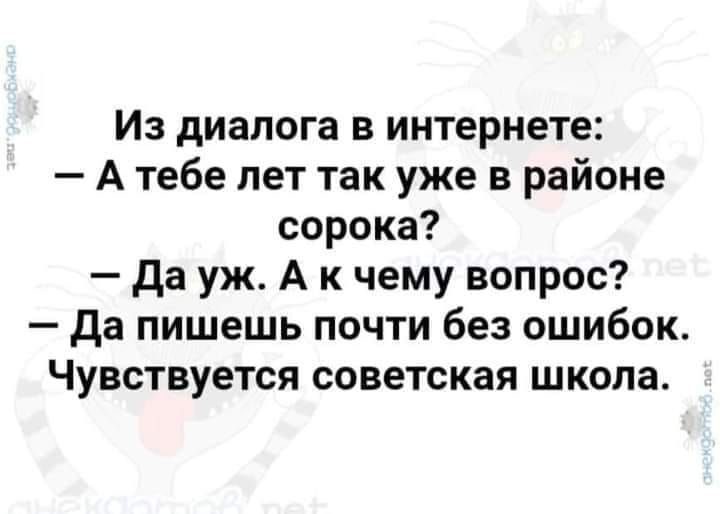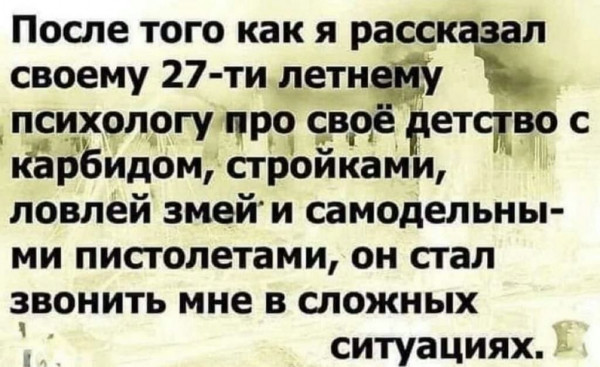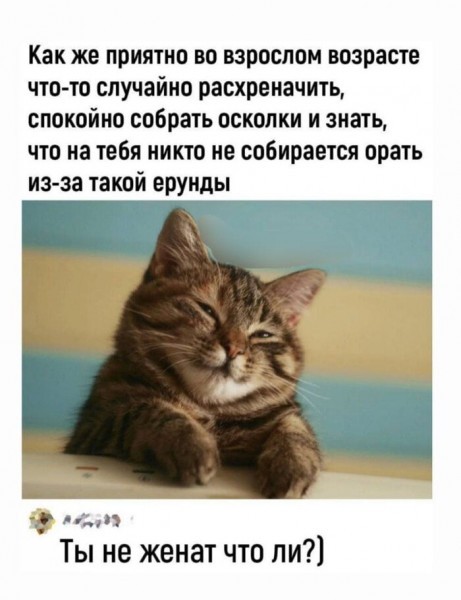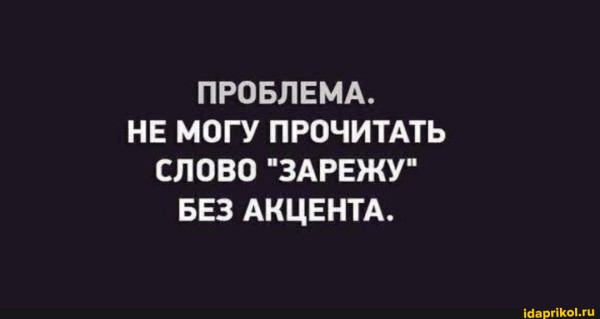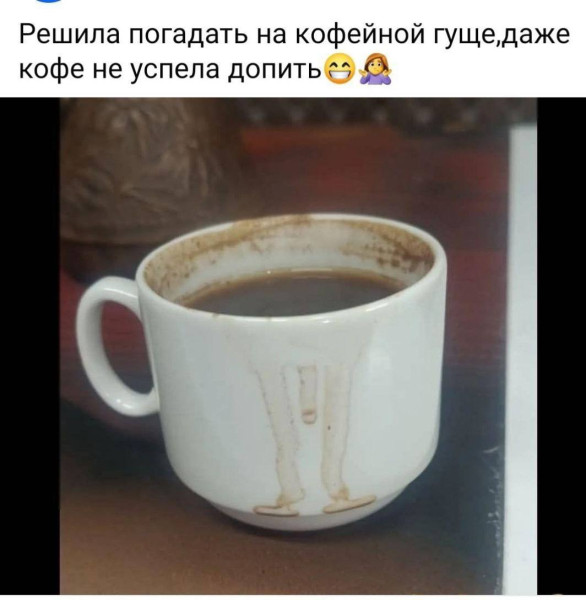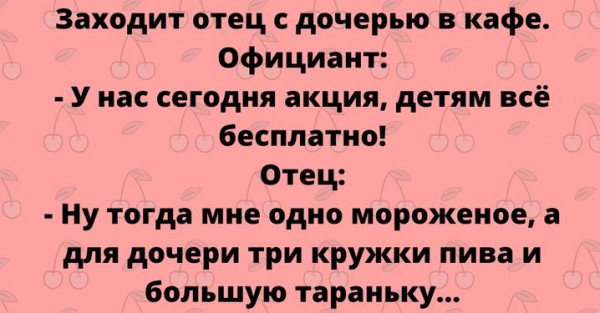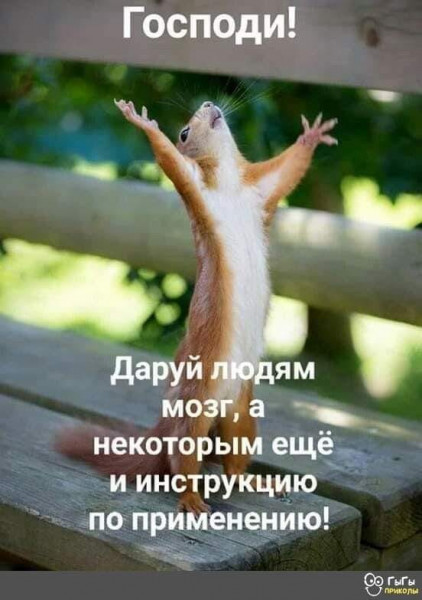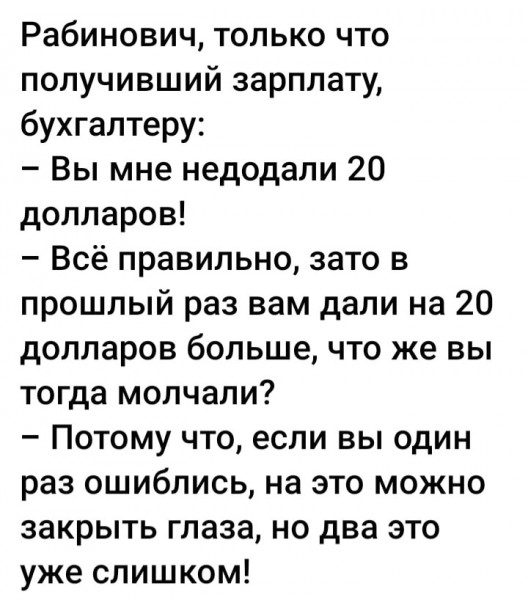
Рассказчик: Byram
26.07.2021, Новые истории - основной выпуск
В Тбилиси есть одна интересная традиция, о которой не знает практически никто из туристов. Да и местные жители, предпочитающие такси и свой руль, вряд ли о ней в курсе. Связана она с тбилисским метро.
Поначалу я не обращал особого внимания на парнишек, трущихся у турникетов. Мало ли, кого-нибудь ждут, или норовят проскочить бесплатно когда контролерша отвернется. Потом стал замечать, что выходящие из метро люди иногда дают им свои карточки, чтобы те прошли за их счет. Странная форма милостыни, подумал я, да и практически забыл об этом.
Вспомнил, когда недавно ехал с моим грузинским другом. Мы поднимались по эскалатору наверх в вестибюль "Руставели". У турникетов как раз маячил такой юноша, с извиняющимся лицом. Мой друг, ничего не говоря и даже не поведя бровью, протянул ему карточку. Парень пискнул ей об турникет, вернул другу и побежал вниз к поездам. Я же решил уточнить.
- А вот скажи, друг мой Гио, это ты ему сейчас подарил поездку за 50 тетри?
- Нет, - усмехнулся Гио в ответ. - Я пропустил его совершенно бесплатно.
- Понятно, бесплатно для него, но ведь ты же за него сейчас заплатил?
- Бесплатно в том смысле, что и мне это тоже ничего не стоило.
- Это как же так?
И тут мой друг Гио поведал такую историю. Традиция эта называется "гивардцахли". Давным-давно на Военно-Грузинской дороге, в наиболее опасных ее местах, стояли сторожевые посты. Они взимали плату с проезжающих, тратя средства на расчистку осыпей, уборку снега, охрану от бандитов.
Но не у всех были деньги на оплату дороги, а ехать иногда было жизненно необходимо. Тогда появилось негласное правило: если ты мог заплатить не только за себя, но и за замерзавшего на обочине бедолагу, то на сторожевом посту брали плату только с тебя. А с тобой его пропускали бесплатно. Гивардцахли. Понимаешь?
Я кивнул, запоминая слово. Владимир Иванович Даль послюнявил карандаш и записал "замолаживает, скоро совсем замолозит".
- И вот, когда вводили карточную систему оплаты метро взамен устаревших жетонов, вспомнили этот обычай. И решили сохранить в память о наших предках. - Продолжил Гио. - Ты входишь, прикладываешь карту с турникета, и за 50 тетри ты можешь ездить полтора часа сколько угодно раз. Получается, что на любой станции ты можешь выйти и тут же сразу войти обратно, и это бесплатно.
- То есть войти могу не я, а кто угодно?
- Точно. В системе это не учитывается. Ты выходишь, прикладываешь карту снова на вход, и пропускаешь бесплатно любого, кто не может заплатить за свою поездку.
- Гивардцахли.
- Да. Делать добро очень легко, когда оно тебе ничего не стоит.
©️ Гоша Димитрюк
Поначалу я не обращал особого внимания на парнишек, трущихся у турникетов. Мало ли, кого-нибудь ждут, или норовят проскочить бесплатно когда контролерша отвернется. Потом стал замечать, что выходящие из метро люди иногда дают им свои карточки, чтобы те прошли за их счет. Странная форма милостыни, подумал я, да и практически забыл об этом.
Вспомнил, когда недавно ехал с моим грузинским другом. Мы поднимались по эскалатору наверх в вестибюль "Руставели". У турникетов как раз маячил такой юноша, с извиняющимся лицом. Мой друг, ничего не говоря и даже не поведя бровью, протянул ему карточку. Парень пискнул ей об турникет, вернул другу и побежал вниз к поездам. Я же решил уточнить.
- А вот скажи, друг мой Гио, это ты ему сейчас подарил поездку за 50 тетри?
- Нет, - усмехнулся Гио в ответ. - Я пропустил его совершенно бесплатно.
- Понятно, бесплатно для него, но ведь ты же за него сейчас заплатил?
- Бесплатно в том смысле, что и мне это тоже ничего не стоило.
- Это как же так?
И тут мой друг Гио поведал такую историю. Традиция эта называется "гивардцахли". Давным-давно на Военно-Грузинской дороге, в наиболее опасных ее местах, стояли сторожевые посты. Они взимали плату с проезжающих, тратя средства на расчистку осыпей, уборку снега, охрану от бандитов.
Но не у всех были деньги на оплату дороги, а ехать иногда было жизненно необходимо. Тогда появилось негласное правило: если ты мог заплатить не только за себя, но и за замерзавшего на обочине бедолагу, то на сторожевом посту брали плату только с тебя. А с тобой его пропускали бесплатно. Гивардцахли. Понимаешь?
Я кивнул, запоминая слово. Владимир Иванович Даль послюнявил карандаш и записал "замолаживает, скоро совсем замолозит".
- И вот, когда вводили карточную систему оплаты метро взамен устаревших жетонов, вспомнили этот обычай. И решили сохранить в память о наших предках. - Продолжил Гио. - Ты входишь, прикладываешь карту с турникета, и за 50 тетри ты можешь ездить полтора часа сколько угодно раз. Получается, что на любой станции ты можешь выйти и тут же сразу войти обратно, и это бесплатно.
- То есть войти могу не я, а кто угодно?
- Точно. В системе это не учитывается. Ты выходишь, прикладываешь карту снова на вход, и пропускаешь бесплатно любого, кто не может заплатить за свою поездку.
- Гивардцахли.
- Да. Делать добро очень легко, когда оно тебе ничего не стоит.
©️ Гоша Димитрюк
14.10.2020, Новые истории - основной выпуск
Натыкаясь на межконфессиональные срачи хочется рассказать про одного батюшку, которого давно, в молодости, было дело подвозил до дома. После долгого застолья, не скрою - а что? Был трезвый. Был повод. Была закуска.
Довез. Наговорились. Время прощаться.
- Хороший ты парень, Мустафа. И машина у тебя хорошая...
Перекрестил размашисто и добавил:
- ...Храни тебя Аллах!
(c) М. Умеров
Довез. Наговорились. Время прощаться.
- Хороший ты парень, Мустафа. И машина у тебя хорошая...
Перекрестил размашисто и добавил:
- ...Храни тебя Аллах!
(c) М. Умеров
27.07.2021, Новые истории - основной выпуск
На прощании в Доме кино Панкратов-Чёрный сказал о Меньшове:
«Он так любил народ! И страдал за него! Страдал!» И могло показаться – дежурная фраза, пафос по случаю. Но…
Панкратов-Чёрный вспомнил, как однажды Меньшов целый день таскал его по Астрахани, городу своего детства, с гордостью и страстью показывал родные места, рассказывал о кремле, старинных закоулках, в бар зашли, где к пиву особенную рыбку подают. А спустя пару лет (дело было на шукшинском фестивале в Сростках) уже Панкратов-Чёрный предложил показать Меньшову свою малую родину. «Далеко?» «Да нет, не очень, километров 500» «А что, поехали!».
Сели они в машину и рванули в деревню Конёво Алтайского края. Дальше – прямая речь:
"И вот пока мой сводный брат Коля и его супруга Зоя накрывали на стол, я повёл Володю показать родную деревню, а это одна, собственно, улочка домов тридцать-сорок. Крыши, крытые дёрном, земляными пластами, трава на крышах растёт... Идём, значит, я веду экскурсию:
– Вот видишь развалившийся сруб? Это клуб, в нём даже маленькая библиотечка была.
– А чего ж не восстановят?
– Так ведь кино не показывают, да и ходить уже некому, остались одни старики, молодёжь разбежалась, работы нет, жить здесь не на что... А вот видишь яма и несколько брёвен от фундамента? Это моя школа, я тут до пятого класса учился.
– Что-то больно маленькая какая-то…
– Ну, а что, в избе – комната для двух учительниц, комната для первого и второго класса, комната для третьего и четвертого… А здесь был магазин, из райцентра раз в месяц сахар и конфетки привозили… Ну, вот больше показывать нечего, вся моя деревня…
Вернулись к брату в его пятистеночек, стол накрыт – грузди наши алтайские, огурчики, помидорчики, самогонка, хлебный квас – всё домашнее. Брат весёлый, радуется, что меня увидел, да ещё и познакомился с таким великим артистом и режиссёром, Владимиром Меньшовым. Выпиваем, закусываем, хозяева улыбаются…
А Володя такой серьёзный-серьёзный сидит, мрачный, смотрит Коле за спину, а там на стене коврик – олень воду пьёт и лебеди плавают – а к коврику приколоты ордена и медали. Володя спрашивает:
– Отцовские медали, Коля?
– Да нет, почему… Мои. Вот орден за посевную в таком-то году, а это медаль за уборочную в таком-то… Ценили нас, ценили – работали-то мы с утра до ночи…
И вдруг Володя заплакал.
Мы опешили – что такое?
А он плачет и говорит, всхлипывая: «Ордена, медали… и ты так живёшь?..»
– А что, – Коля засуетился, – Хорошо живу, огород, всё своё, видишь, какой стол… Ну, а денег не платят, так их и тратить не на что…Перебьёмся!
А Володя плакал и плакал, вы не представляете… Как Шукшин в «Калине красной» на холмике – «да ведь это же мать моя»… Вот так и Володя рыдал, рыдал, обнял Кольку по-братски, говорит: «Да как же так! Сволочи! На мерседесах ездят, а всё равно Россией недовольны!..»
Это было так пронзительно… Мы его еле его успокоили … А потом, когда ехали обратно, он вдруг говорит – строго так, горько: «Сашка! Снимать кино надо – о любви! Потому что русскому народу любовь не-об-хо-ди-ма! Иначе озлобится!"
***
Не идёт у меня из головы эта история о плачущем Меньшове. Плачущем, как Шукшин. Правда, Шукшин плакал в кино, а это в жизни.
«Он так любил народ! И страдал за него! Страдал!» И могло показаться – дежурная фраза, пафос по случаю. Но…
Панкратов-Чёрный вспомнил, как однажды Меньшов целый день таскал его по Астрахани, городу своего детства, с гордостью и страстью показывал родные места, рассказывал о кремле, старинных закоулках, в бар зашли, где к пиву особенную рыбку подают. А спустя пару лет (дело было на шукшинском фестивале в Сростках) уже Панкратов-Чёрный предложил показать Меньшову свою малую родину. «Далеко?» «Да нет, не очень, километров 500» «А что, поехали!».
Сели они в машину и рванули в деревню Конёво Алтайского края. Дальше – прямая речь:
"И вот пока мой сводный брат Коля и его супруга Зоя накрывали на стол, я повёл Володю показать родную деревню, а это одна, собственно, улочка домов тридцать-сорок. Крыши, крытые дёрном, земляными пластами, трава на крышах растёт... Идём, значит, я веду экскурсию:
– Вот видишь развалившийся сруб? Это клуб, в нём даже маленькая библиотечка была.
– А чего ж не восстановят?
– Так ведь кино не показывают, да и ходить уже некому, остались одни старики, молодёжь разбежалась, работы нет, жить здесь не на что... А вот видишь яма и несколько брёвен от фундамента? Это моя школа, я тут до пятого класса учился.
– Что-то больно маленькая какая-то…
– Ну, а что, в избе – комната для двух учительниц, комната для первого и второго класса, комната для третьего и четвертого… А здесь был магазин, из райцентра раз в месяц сахар и конфетки привозили… Ну, вот больше показывать нечего, вся моя деревня…
Вернулись к брату в его пятистеночек, стол накрыт – грузди наши алтайские, огурчики, помидорчики, самогонка, хлебный квас – всё домашнее. Брат весёлый, радуется, что меня увидел, да ещё и познакомился с таким великим артистом и режиссёром, Владимиром Меньшовым. Выпиваем, закусываем, хозяева улыбаются…
А Володя такой серьёзный-серьёзный сидит, мрачный, смотрит Коле за спину, а там на стене коврик – олень воду пьёт и лебеди плавают – а к коврику приколоты ордена и медали. Володя спрашивает:
– Отцовские медали, Коля?
– Да нет, почему… Мои. Вот орден за посевную в таком-то году, а это медаль за уборочную в таком-то… Ценили нас, ценили – работали-то мы с утра до ночи…
И вдруг Володя заплакал.
Мы опешили – что такое?
А он плачет и говорит, всхлипывая: «Ордена, медали… и ты так живёшь?..»
– А что, – Коля засуетился, – Хорошо живу, огород, всё своё, видишь, какой стол… Ну, а денег не платят, так их и тратить не на что…Перебьёмся!
А Володя плакал и плакал, вы не представляете… Как Шукшин в «Калине красной» на холмике – «да ведь это же мать моя»… Вот так и Володя рыдал, рыдал, обнял Кольку по-братски, говорит: «Да как же так! Сволочи! На мерседесах ездят, а всё равно Россией недовольны!..»
Это было так пронзительно… Мы его еле его успокоили … А потом, когда ехали обратно, он вдруг говорит – строго так, горько: «Сашка! Снимать кино надо – о любви! Потому что русскому народу любовь не-об-хо-ди-ма! Иначе озлобится!"
***
Не идёт у меня из головы эта история о плачущем Меньшове. Плачущем, как Шукшин. Правда, Шукшин плакал в кино, а это в жизни.
На девятнадцатом году революции Сталину пришла мысль устроить в Ленинграде "чистку". Он изобрел способ, который казался ему тонким: обмен паспортов. И десяткам тысяч людей, главным образом дворянам,стали отказывать в них. А эти дворяне давным-давно превратились в добросовестных советских служащих с дешевенькими портфелями из свиной кожи.
За отказом в паспорте следовала немедленная высылка: либо поближе к тундре, либо - к раскаленным пескам Каракума.
Ленинград плакал.
Незадолго до этого Шостакович получил новую квартиру. Она была раза в три больше его прежней на улице Марата. Не стоять же квартире пустой, голой.
Шостакович наскреб немного денег, принес их Софье Васильевне и сказал:
- Пожалуйста, купи, мама, чего-нибудь из мебели.
И уехал по делам в Москву, где пробыл недели две. А когда вернулся в новую квартиру, глазам своим не поверил: в комнатах стояли павловские и александровские стулья красного дерева, столики, шкаф, бюро. Почти в достаточном количестве.
- И все это, мама, ты купила на те гроши, что я тебе оставил?
- У нас, видишь ли, страшно подешевела мебель, - ответила Софья Васильевна.
- С чего бы?
- Дворян высылали. Ну, они в спешке чуть ли не даром отдавали вещи. Вот,скажем, это бюро раньше стоило...
И Софья Васильевна стала рассказывать, сколько раньше стоила такая и такая вещь и сколько теперь за нее заплачено.
Дмитрий Дмитриевич посерел. Тонкие губы его сжались.
- Боже мой!..
И, торопливо вынув из кармана записную книжку, он взял со стола карандаш.
- Сколько стоили эти стулья до несчастья, мама?.. А теперь сколько ты заплатила?.. Где ты их купила?.. А это бюро?.. А диван?.. и т, д.
Софья Васильевна точно отвечала, не совсем понимая, для чего он ее об этом спрашивает.
Все записав своим острым, тонким, шатающимся почерком, Дмитрий Дмитриевич нервно вырвал из книжицы лист и сказал, передавая его матери:
- Я сейчас поеду раздобывать деньги. Хоть из-под земли. А завтра, мама, с утра ты развези их по этим адресам. У всех ведь остались в Ленинграде близкие люди. Они и перешлют деньги - туда, тем... Эти стулья раньше стоили полторы тысячи, ты их купила за четыреста, - верни тысячу сто... И за бюро,и за диван... За все... У людей, мама, несчастье, как же этим пользоваться?.. Правда, мама?..
- Я, разумеется, сделала все так, как хотел Митя, - сказала мне Софья Васильевна.
- Не сомневаюсь.
Что это?..
Пожалуй, обыкновенная порядочность. Но как же нам не хватает ее в жизни! Этой обыкновенной порядочности!
Анатолий Мариенгоф, "Бессмертная трилогия"
За отказом в паспорте следовала немедленная высылка: либо поближе к тундре, либо - к раскаленным пескам Каракума.
Ленинград плакал.
Незадолго до этого Шостакович получил новую квартиру. Она была раза в три больше его прежней на улице Марата. Не стоять же квартире пустой, голой.
Шостакович наскреб немного денег, принес их Софье Васильевне и сказал:
- Пожалуйста, купи, мама, чего-нибудь из мебели.
И уехал по делам в Москву, где пробыл недели две. А когда вернулся в новую квартиру, глазам своим не поверил: в комнатах стояли павловские и александровские стулья красного дерева, столики, шкаф, бюро. Почти в достаточном количестве.
- И все это, мама, ты купила на те гроши, что я тебе оставил?
- У нас, видишь ли, страшно подешевела мебель, - ответила Софья Васильевна.
- С чего бы?
- Дворян высылали. Ну, они в спешке чуть ли не даром отдавали вещи. Вот,скажем, это бюро раньше стоило...
И Софья Васильевна стала рассказывать, сколько раньше стоила такая и такая вещь и сколько теперь за нее заплачено.
Дмитрий Дмитриевич посерел. Тонкие губы его сжались.
- Боже мой!..
И, торопливо вынув из кармана записную книжку, он взял со стола карандаш.
- Сколько стоили эти стулья до несчастья, мама?.. А теперь сколько ты заплатила?.. Где ты их купила?.. А это бюро?.. А диван?.. и т, д.
Софья Васильевна точно отвечала, не совсем понимая, для чего он ее об этом спрашивает.
Все записав своим острым, тонким, шатающимся почерком, Дмитрий Дмитриевич нервно вырвал из книжицы лист и сказал, передавая его матери:
- Я сейчас поеду раздобывать деньги. Хоть из-под земли. А завтра, мама, с утра ты развези их по этим адресам. У всех ведь остались в Ленинграде близкие люди. Они и перешлют деньги - туда, тем... Эти стулья раньше стоили полторы тысячи, ты их купила за четыреста, - верни тысячу сто... И за бюро,и за диван... За все... У людей, мама, несчастье, как же этим пользоваться?.. Правда, мама?..
- Я, разумеется, сделала все так, как хотел Митя, - сказала мне Софья Васильевна.
- Не сомневаюсь.
Что это?..
Пожалуй, обыкновенная порядочность. Но как же нам не хватает ее в жизни! Этой обыкновенной порядочности!
Анатолий Мариенгоф, "Бессмертная трилогия"
Была весна 1912 года, перед экзаменами в саду была устроена сходка. На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. Евреи об этой сходке ничего не должны были знать.
На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет.
Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса, мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета. Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никого из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек.
Константин Паустовский
На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет.
Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса, мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета. Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никого из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек.
Константин Паустовский
...На дворе стоял тридцать второй год. Шестнадцатилетний Зяма пришел в полуподвальчик в Столешниковом переулке в скупку ношеных вещей, чтобы продать пальтишко (денег не было совсем). И познакомился там с женщиной, в которую немедленно влюбился. Продавать пальтишко женщина ему нежно запретила («простынете, молодой человек, только начало марта»).
Из разговора о погоде случайно выяснилось, что собеседница Гердта сегодня с раннего утра пыталась добыть билеты к Мейерхольду на юбилейный «Лес», но не смогла.Что сказал на это шестнадцатилетний Зяма? Он сказал: «Я вас приглашаю».
– Это невозможно, – улыбнулась милая женщина. – Билетов давно нет…
– Я вас приглашаю! – настаивал Зяма.
– Хорошо, – ответила женщина. – Я приду.
Нахальство юного Зямы объяснялось дружбой с сыном Мейерхольда. Прямо из полуподвальчика он побежал к Всеволоду Эмильевичу, моля небо, чтобы тот был дома. Небо услышало эти молитвы. Зяма изложил суть дела – он уже пригласил женщину на сегодняшний спектакль, и Зямина честь в руках Мастера! Мейерхольд взял со стола блокнот, написал в нем волшебные слова «подателю сего выдать два места в партере», не без шика расписался и, выдрав листок, вручил его юноше.
И Зяма полетел в театр, к администратору. От содержания записки администратор пришел в ужас. Никакого партера, пущу постоять на галерку… Но обнаглевший от счастья Зяма требовал выполнения условий! Наконец компромисс был найден: подойди перед спектаклем, сказал администратор, может, кто–нибудь не придет… Ожидался съезд важных гостей. Рассказывая эту историю спустя шестьдесят с лишним лет, Зиновий Ефимович помнил имя своего невольного благодетеля: не пришел поэт Джек Алтаузен!
Вместе с женщиной своей мечты шестнадцатилетний Зяма оказался в партере мейерхольдовского «Леса» на юбилейном спектакле. И тут же проклял все на свете. Вокруг сидел советский бомонд: тут Бухарин, там Качалов… А рядом сидела женщина в вечернем платье, невозможной красоты. На нее засматривались все гости – и обнаруживали возле красавицы щуплого подростка в сборном гардеробе: пиджак от одного брата, ботинки от другого… По всем параметрам, именно этот подросток и был лишним здесь, возле этой женщины, в этом зале…
Гердт, одаренный самоиронией от природы, понял это первым. Его милая спутница, хотя вела себя безукоризненно, тоже явно тяготилась ситуацией.
Наступил антракт; в фойе зрителей ждал фуршет. В ярком свете диссонанс между Зямой и его спутницей стал невыносимым. Он молил бога о скорейшем окончании позора, когда в фойе появился Мейерхольд.
Принимая поздравления, Всеволод Эмильевич прошелся по бомонду, поговорил с самыми ценными гостями… И тут беглый взгляд режиссера зацепился за несчастную пару. Мейерхольд мгновенно оценил мизансцену – и вошел в нее с безошибочностью гения.
– Зиновий! – вдруг громко воскликнул он. – Зиновий, вы?
Все обернулись.
Мейерхольд с простертыми руками шел через фойе к шестнадцатилетнему подростку.
– Зиновий, куда вы пропали? Я вам звонил, но вы не берете трубку…
(«Затруднительно мне было брать трубку, – комментировал это Гердт полвека спустя, – у меня не было телефона». Но в тот вечер юному Зяме хватило сообразительности не опровергать классика.)
– Совсем забыли старика, – сетовал Мейерхольд. – Не звоните, не заходите… А мне о стольком надо с вами поговорить!
И еще долго, склонившись со своего гренадерского роста к скромным Зяминым размерам, чуть ли не заискивая, он жал руку подростку и на глазах у ошеломленной красавицы брал с него слово, что завтра же, с утра, увидит его у себя… Им надо о стольком поговорить!
«После антракта, – выждав паузу, продолжал эту историю Зиновий Ефимович, – я позволял себе смеяться невпопад…» О да! если короля играют придворные, что ж говорить о человеке, «придворным» у которого поработал Всеволод Мейерхольд?
Наутро шестнадцатилетний «король» первым делом побежал в дом к благодетелю. Им надо было о стольком поговорить! Длинного разговора, однако, не получилось. Размеры вчерашнего благодеяния были известны корифею, и выпрямившись во весь свой прекрасный рост, он – во всех смыслах свысока – сказал только одно слово:
– Ну?
Воспроизводя полвека спустя это царственное «ну», Зиновий Ефимович Гердт становился вдруг на локоть выше и оказывался невероятно похожим на Мейерхольда…
Из разговора о погоде случайно выяснилось, что собеседница Гердта сегодня с раннего утра пыталась добыть билеты к Мейерхольду на юбилейный «Лес», но не смогла.Что сказал на это шестнадцатилетний Зяма? Он сказал: «Я вас приглашаю».
– Это невозможно, – улыбнулась милая женщина. – Билетов давно нет…
– Я вас приглашаю! – настаивал Зяма.
– Хорошо, – ответила женщина. – Я приду.
Нахальство юного Зямы объяснялось дружбой с сыном Мейерхольда. Прямо из полуподвальчика он побежал к Всеволоду Эмильевичу, моля небо, чтобы тот был дома. Небо услышало эти молитвы. Зяма изложил суть дела – он уже пригласил женщину на сегодняшний спектакль, и Зямина честь в руках Мастера! Мейерхольд взял со стола блокнот, написал в нем волшебные слова «подателю сего выдать два места в партере», не без шика расписался и, выдрав листок, вручил его юноше.
И Зяма полетел в театр, к администратору. От содержания записки администратор пришел в ужас. Никакого партера, пущу постоять на галерку… Но обнаглевший от счастья Зяма требовал выполнения условий! Наконец компромисс был найден: подойди перед спектаклем, сказал администратор, может, кто–нибудь не придет… Ожидался съезд важных гостей. Рассказывая эту историю спустя шестьдесят с лишним лет, Зиновий Ефимович помнил имя своего невольного благодетеля: не пришел поэт Джек Алтаузен!
Вместе с женщиной своей мечты шестнадцатилетний Зяма оказался в партере мейерхольдовского «Леса» на юбилейном спектакле. И тут же проклял все на свете. Вокруг сидел советский бомонд: тут Бухарин, там Качалов… А рядом сидела женщина в вечернем платье, невозможной красоты. На нее засматривались все гости – и обнаруживали возле красавицы щуплого подростка в сборном гардеробе: пиджак от одного брата, ботинки от другого… По всем параметрам, именно этот подросток и был лишним здесь, возле этой женщины, в этом зале…
Гердт, одаренный самоиронией от природы, понял это первым. Его милая спутница, хотя вела себя безукоризненно, тоже явно тяготилась ситуацией.
Наступил антракт; в фойе зрителей ждал фуршет. В ярком свете диссонанс между Зямой и его спутницей стал невыносимым. Он молил бога о скорейшем окончании позора, когда в фойе появился Мейерхольд.
Принимая поздравления, Всеволод Эмильевич прошелся по бомонду, поговорил с самыми ценными гостями… И тут беглый взгляд режиссера зацепился за несчастную пару. Мейерхольд мгновенно оценил мизансцену – и вошел в нее с безошибочностью гения.
– Зиновий! – вдруг громко воскликнул он. – Зиновий, вы?
Все обернулись.
Мейерхольд с простертыми руками шел через фойе к шестнадцатилетнему подростку.
– Зиновий, куда вы пропали? Я вам звонил, но вы не берете трубку…
(«Затруднительно мне было брать трубку, – комментировал это Гердт полвека спустя, – у меня не было телефона». Но в тот вечер юному Зяме хватило сообразительности не опровергать классика.)
– Совсем забыли старика, – сетовал Мейерхольд. – Не звоните, не заходите… А мне о стольком надо с вами поговорить!
И еще долго, склонившись со своего гренадерского роста к скромным Зяминым размерам, чуть ли не заискивая, он жал руку подростку и на глазах у ошеломленной красавицы брал с него слово, что завтра же, с утра, увидит его у себя… Им надо о стольком поговорить!
«После антракта, – выждав паузу, продолжал эту историю Зиновий Ефимович, – я позволял себе смеяться невпопад…» О да! если короля играют придворные, что ж говорить о человеке, «придворным» у которого поработал Всеволод Мейерхольд?
Наутро шестнадцатилетний «король» первым делом побежал в дом к благодетелю. Им надо было о стольком поговорить! Длинного разговора, однако, не получилось. Размеры вчерашнего благодеяния были известны корифею, и выпрямившись во весь свой прекрасный рост, он – во всех смыслах свысока – сказал только одно слово:
– Ну?
Воспроизводя полвека спустя это царственное «ну», Зиновий Ефимович Гердт становился вдруг на локоть выше и оказывался невероятно похожим на Мейерхольда…
17.10.2021, Новые истории - основной выпуск
Русская народная ( Russkaya narodnaya) песня.
Вспоминаю, как в бытность моей недолгой (всё-таки, надо было уметь ещё и петь) работы в хоре музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко в 1994 году руководство театра решило провести т.н. 'валютный фестиваль', одной из фишек которого была а-капелльная программа для оперного хора. Первое отделение состояло из шедевров русской духовной музыки, второе - из академических обработок русских народных песен. Параллельно с конферансье объявление номеров дублировалось двумя переводчиками-синхронистами на английский и французский языки - полный зал иностранцев, а вы как думали!
Картина маслом:
- Русская народная песня, - торжественно объявляет конферансье, - в обработке Синенкова 'Ох вы сени, мои сени'!
- Рашн фолк сонг, - бодренько так дублирует в микрофон первый синхронист, - элаборэйшн бай Синенкуофф... - далее возникает небольшая пауза, очевидно для осмысления перевода, после чего слегка дрогнувшим голосом, - 'О холл, май холл...'
Хор на сцене мелко-мелко затрясло - все пытались сдержать истерический смех. Дирижёр выпучил глаза и странно покачнулся.
Французскому синхронисту было сложнее:
- Кансён алля рюс, - многообещающе начал он в микрофон за кулисами, - элаборасьён дю Синенк-офф, - и тут впал в какой-то совершенно неприличный ступор, продолжавшийся секунд двадцать. После чего обречённо заявил: 'Вестибюль... Мон вестибюль...'
Хор согнулся пополам от могучего русского хохота - бесмысленного и беспощадного: с лошадинным ржанием басов, похрюкиванем теноров, истеричным взвизгиванием сопран, и рыдающим 'ой-бл#-не-могу!' альтовой группы хора, сопровождаемой размазыванием косметики по лицу, у троих от смеха упали папки с нотами - партитуры разлетелись по всей сцене, чем вызвали новый приступ...
Иностранная публика была в восторге, ибо подумала, что теперь так и надо, а вы бы что подумали. Французский синхронист горько плакал за кулисами, а дирижёру вызывали скорую.
Вспоминаю, как в бытность моей недолгой (всё-таки, надо было уметь ещё и петь) работы в хоре музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко в 1994 году руководство театра решило провести т.н. 'валютный фестиваль', одной из фишек которого была а-капелльная программа для оперного хора. Первое отделение состояло из шедевров русской духовной музыки, второе - из академических обработок русских народных песен. Параллельно с конферансье объявление номеров дублировалось двумя переводчиками-синхронистами на английский и французский языки - полный зал иностранцев, а вы как думали!
Картина маслом:
- Русская народная песня, - торжественно объявляет конферансье, - в обработке Синенкова 'Ох вы сени, мои сени'!
- Рашн фолк сонг, - бодренько так дублирует в микрофон первый синхронист, - элаборэйшн бай Синенкуофф... - далее возникает небольшая пауза, очевидно для осмысления перевода, после чего слегка дрогнувшим голосом, - 'О холл, май холл...'
Хор на сцене мелко-мелко затрясло - все пытались сдержать истерический смех. Дирижёр выпучил глаза и странно покачнулся.
Французскому синхронисту было сложнее:
- Кансён алля рюс, - многообещающе начал он в микрофон за кулисами, - элаборасьён дю Синенк-офф, - и тут впал в какой-то совершенно неприличный ступор, продолжавшийся секунд двадцать. После чего обречённо заявил: 'Вестибюль... Мон вестибюль...'
Хор согнулся пополам от могучего русского хохота - бесмысленного и беспощадного: с лошадинным ржанием басов, похрюкиванем теноров, истеричным взвизгиванием сопран, и рыдающим 'ой-бл#-не-могу!' альтовой группы хора, сопровождаемой размазыванием косметики по лицу, у троих от смеха упали папки с нотами - партитуры разлетелись по всей сцене, чем вызвали новый приступ...
Иностранная публика была в восторге, ибо подумала, что теперь так и надо, а вы бы что подумали. Французский синхронист горько плакал за кулисами, а дирижёру вызывали скорую.
07.09.2021, Новые истории - основной выпуск
В лагере зэки кухонным ножом вырезали для нее на нарах фортепианную клавиатуру. И она по ночам играла на этом безмолвном инструменте Баха, Бетховена, Шопена. Женщины из барака уверяли потом, что слышали эту беззвучную музыку, просто следя за ее искореженными работой на лесоповале пальцами и лицом.
Дочь француза и испанки — преподавателей Парижского университета Сорбонна, Вера Лотар училась в Париже у Альфреда Корто, затем в Венской академии музыки. В 12 лет дебютировала с оркестром под руководством великого Артуро Тосканини.
Будучи уже известной пианисткой, дававшей сольные концерты во многих странах мира, вышла замуж за советского инженера Владимира Шевченко и в 1937 году приехала с ним в СССР.. Вскоре Владимир Шевченко был арестован. Вера кинулась в НКВД и стала кричать, путая русские слова и французские, что муж ее — замечательный честный человек, патриот, а если они этого не понимают, то они — дураки, идиоты, фашисты и берите тогда и меня… Они и взяли. И будет Вера Лотар-Шевченко тринадцать лет валить лес. Узнает о смерти мужа в лагере и двух детей в блокадном Ленинграде.
Освободилась в Нижнем Тагиле. И прямо с вокзала в драной лагерной телогрейке из последних сил бежала поздним вечером в музыкальную школу, дико стучала в двери, умоляя о «разрешении подойти к роялю»… чтобы… чтобы «играть концерт»…
Ей разрешили. У закрытой двери, не смея зайти, рыдали навзрыд педагоги. Было же понятно, откуда она прибежала в драной телогрейке. Играла почти всю ночь. И заснула за инструментом. Потом, смеясь, рассказывала: «А проснулась я уже преподавателем той школы». Последние шестнадцать лет своей жизни Вера Лотар-Шевченко жила в Академгородке под Новосибирском.
Она не просто восстановится после лагеря как музыкант, но и начнет активную гастрольную деятельность. На ее концерты билеты в первый ряд не продавали. Места здесь предназначались для тех, с кем разделила она страшные лагерные годы. Пришел — значит, жив.
Пальцы у Веры Августовны до конца жизни были красные, корявые, узловатые, гнутые, изуродованные артритом. И еще — неправильно сросшиеся после того, как их на допросах переломал («не спеша, смакуя каждый удар, рукоятью пистолета») старший следователь, капитан Алтухов. Фамилию эту она помнила потом всю жизнь и никогда его не простила...
Вера Лотар-Шевченко скончалась в 1982 году в Новосибирском Академгородке. На её могиле выбита её собственная фраза: «Жизнь, в которой есть Бах, благословенна.»
Дочь француза и испанки — преподавателей Парижского университета Сорбонна, Вера Лотар училась в Париже у Альфреда Корто, затем в Венской академии музыки. В 12 лет дебютировала с оркестром под руководством великого Артуро Тосканини.
Будучи уже известной пианисткой, дававшей сольные концерты во многих странах мира, вышла замуж за советского инженера Владимира Шевченко и в 1937 году приехала с ним в СССР.. Вскоре Владимир Шевченко был арестован. Вера кинулась в НКВД и стала кричать, путая русские слова и французские, что муж ее — замечательный честный человек, патриот, а если они этого не понимают, то они — дураки, идиоты, фашисты и берите тогда и меня… Они и взяли. И будет Вера Лотар-Шевченко тринадцать лет валить лес. Узнает о смерти мужа в лагере и двух детей в блокадном Ленинграде.
Освободилась в Нижнем Тагиле. И прямо с вокзала в драной лагерной телогрейке из последних сил бежала поздним вечером в музыкальную школу, дико стучала в двери, умоляя о «разрешении подойти к роялю»… чтобы… чтобы «играть концерт»…
Ей разрешили. У закрытой двери, не смея зайти, рыдали навзрыд педагоги. Было же понятно, откуда она прибежала в драной телогрейке. Играла почти всю ночь. И заснула за инструментом. Потом, смеясь, рассказывала: «А проснулась я уже преподавателем той школы». Последние шестнадцать лет своей жизни Вера Лотар-Шевченко жила в Академгородке под Новосибирском.
Она не просто восстановится после лагеря как музыкант, но и начнет активную гастрольную деятельность. На ее концерты билеты в первый ряд не продавали. Места здесь предназначались для тех, с кем разделила она страшные лагерные годы. Пришел — значит, жив.
Пальцы у Веры Августовны до конца жизни были красные, корявые, узловатые, гнутые, изуродованные артритом. И еще — неправильно сросшиеся после того, как их на допросах переломал («не спеша, смакуя каждый удар, рукоятью пистолета») старший следователь, капитан Алтухов. Фамилию эту она помнила потом всю жизнь и никогда его не простила...
Вера Лотар-Шевченко скончалась в 1982 году в Новосибирском Академгородке. На её могиле выбита её собственная фраза: «Жизнь, в которой есть Бах, благословенна.»
20.07.2021, Новые истории - основной выпуск
В детстве Олег Табаков жил с бабушкой на окраине Саратова. Недалеко был лагерь немецких военнопленных. В 1944 году в нескольких городах прошли прогоны немецких военнопленных по улицам. Шла репетиция такого прогона и в Саратове. Немцев построили, прогнали к замёрзшей Волге. Там они помёрзли с часик, и потом их погнали обратно в бараки. «И моя бабушка, - говорит Табаков, - почему-то сжалилась над ними. Это странно, потому что у неё к этому времени один сын пропал без вести на войне с немцами, другой сын вернулся с нее калекой. А она, увидев, как они мёрзнут, отрезала им от своего пайково-карточного хлебушка половину и говорит: «Олежек, отнеси!»…
Мне было так страшно – я боялся наших конвоиров, я боялся овчарок, я боялся этих немцев… Но я пошёл и отнёс им этот хлеб и – бегом назад. И я убеждён, что Господь за этот хлеб меня отблагодарил: в 1992 году, когда гайдаровские реформы довели до голода, было впору закрывать театр. И вдруг, в самую трудную минуту, звонок из Ленинградского морского порта: «Вам пришёл контейнер с гуманитарной помощью из Германии». Оказывается, какие-то театры в Германии решили собрать помощь театру Олега Табакова. Несколько раз в году они присылали эти контейнеры, и это помогло выжить артистам, не закрыть театр… Я убеждён, что так вот та горбушка мне вернулась от Бога..."
Из воспоминаний Иннокентия Смоктуновского
Мне было так страшно – я боялся наших конвоиров, я боялся овчарок, я боялся этих немцев… Но я пошёл и отнёс им этот хлеб и – бегом назад. И я убеждён, что Господь за этот хлеб меня отблагодарил: в 1992 году, когда гайдаровские реформы довели до голода, было впору закрывать театр. И вдруг, в самую трудную минуту, звонок из Ленинградского морского порта: «Вам пришёл контейнер с гуманитарной помощью из Германии». Оказывается, какие-то театры в Германии решили собрать помощь театру Олега Табакова. Несколько раз в году они присылали эти контейнеры, и это помогло выжить артистам, не закрыть театр… Я убеждён, что так вот та горбушка мне вернулась от Бога..."
Из воспоминаний Иннокентия Смоктуновского
08.10.2021, Новые истории - основной выпуск
Моя мать была подругой одного женатого мужчины, от которого я и родился.
Сколько себя помню в детстве, постоянного жилья у нас не было, все время скитались и снимали квартиры.
Когда мне было пять лет, мать познакомилась с очередным мужчиной и захотела быть с ним, но он поставил ей условие, что возьмет ее, если она будет одна.
Та легко и просто променяла сына на этого мужика. Просто привезла меня к моему отцу, дав в руки все необходимые документы. Она позвонила в дверь его квартиры, услышала звук открывающего замка и убежала. А я остался стоять.
Дверь открыл отец и опешил увидев меня. Он понял сразу, кто я. Завел в квартиру.
Его жена приняла меня хорошо -также, как и их дети, дочка и сын. Отец хотел сначала отдать меня в приют, но его супруга не дала этого сделать, сказав, что я ни в чем не виноват. Просто святая женщина.
Я поначалу ждал свою родную мать, думал, что она вот-вот вернется за мной. А потом перестал, и начал жену своего отца называть мамой.
Мой родной отец не питал ни к одному своему ребенку теплых чувств, не говоря уже обо мне. Меня он считал лишним ртом, но продолжал содержать, как и остальных членов семьи.
Сам он был довольно-таки деспотичным человеком. Когда приходил домой, мы запирались все вместе в детской комнате и старались не попадаться ему на глаза. Его жена не могла уйти от властного мужа, детей он бы не отдал ей из принципа. Вот так годами и терпела все его гуляния и припадки злости. Она научилась его избегать и когда нужно, подавлять его гнев, защищала нас от скандалов и криков. В доме была тишина, мы знали расписание и не нервировали отца. Главное, мы не нуждались ни в чем, а мама дарила нам любовь и ласку за двоих.
И когда он все-таки ушел к очередной молодой любовнице, мы все вздохнули с облегчением. На тот момент мы уже были практически взрослыми. Сестра и брат заканчивали школу. По стечению обстоятельств, мы были ровесниками, поэтому я тоже готовился к выпускным экзаменам в школе. Вот так, трое выпускников. Мы помогали друг другу, подтягивая по предметам.
Каждый из нас мечтал поступить в престижный институт. Отец, хоть и не был с нами ласков, но оплатить учебу обещал и сдержал свое слово. Мы поступили и выучились, получив те специальности, о которых мечтали.
А потом случилось так, что наш отец умер. После него осталось хорошее наследство.
Его последней любовнице не досталось ничего — она просто не успела его женить на себе. Ну а мы все стали полноправными хозяевами его фирмы и денежных счетов.
Мы продолжили развивать бизнес. И настал тот момент, когда нужно было ехать за границу, открывать новый филиал. Решили, что главным в том филиале буду я.
Я предложил забрать с собой нашу маму — она как никто другой, достойна была уехать в теплую страну. Мои сестра с братом, поддержали мою идею.
И вот настал тот момент, когда мы должны были уезжать. И тут вдруг нарисовалась моя родная мать. Я узнал ее сразу. Моя детская память запечатлела ее образ на долгие годы.
Она решила вдруг вспомнить обо мне, узнав, что я уезжаю:
«Сынок, я твоя настоящая мать! Неужели ты забыл меня? Ты стал таким взрослым.
А я так скучала и переживала, как ты живешь. Давай наконец-то будем жить вместе!»
Я поражен был ее наглостью:
«Конечно я помню тебя! Помню, как ты убегала от дверей, оставив меня совсем еще маленьким.
И ты мне не мать. Моя мама сейчас уезжает вместе со мной. А тебя я даже знать не хочу».
Развернулся и ушел. И ни капли не сожалею об этом.
Моя мама — та, что не побоялась взять ребенка своего мужа от посторонней женщины, воспитавшая меня в любви и ласке. Она сидела со мной, когда я болел, она была рядом когда мне первый раз разбили сердце, она успокаивала меня после ссор с друзьями, учила меня, прощала мне шалости и глупости, терпела мои капризы в подростковый возраст, никогда не напоминала, что я ей не родной. Для нее я стал сыном, для меня она стала мамой! Другой у меня нет!
Мы уехали с ней в другую страну. Там я встретил свою будущую жену, маме она понравилась и у них хорошие отношения. Мама не стала помехой моей личной жизни, более того, она отважилась устроить свою жизнь. Она встретила милого мужчину, я был только за. Она заслужила свое счастье! Сейчас мама много путешествует, часто навещает своих детей и внуков. Я смотрю в ее радостные глаза и понимаю — я рад, что она есть в моей жизни. Она мой ангел-хранитель!
Сколько себя помню в детстве, постоянного жилья у нас не было, все время скитались и снимали квартиры.
Когда мне было пять лет, мать познакомилась с очередным мужчиной и захотела быть с ним, но он поставил ей условие, что возьмет ее, если она будет одна.
Та легко и просто променяла сына на этого мужика. Просто привезла меня к моему отцу, дав в руки все необходимые документы. Она позвонила в дверь его квартиры, услышала звук открывающего замка и убежала. А я остался стоять.
Дверь открыл отец и опешил увидев меня. Он понял сразу, кто я. Завел в квартиру.
Его жена приняла меня хорошо -также, как и их дети, дочка и сын. Отец хотел сначала отдать меня в приют, но его супруга не дала этого сделать, сказав, что я ни в чем не виноват. Просто святая женщина.
Я поначалу ждал свою родную мать, думал, что она вот-вот вернется за мной. А потом перестал, и начал жену своего отца называть мамой.
Мой родной отец не питал ни к одному своему ребенку теплых чувств, не говоря уже обо мне. Меня он считал лишним ртом, но продолжал содержать, как и остальных членов семьи.
Сам он был довольно-таки деспотичным человеком. Когда приходил домой, мы запирались все вместе в детской комнате и старались не попадаться ему на глаза. Его жена не могла уйти от властного мужа, детей он бы не отдал ей из принципа. Вот так годами и терпела все его гуляния и припадки злости. Она научилась его избегать и когда нужно, подавлять его гнев, защищала нас от скандалов и криков. В доме была тишина, мы знали расписание и не нервировали отца. Главное, мы не нуждались ни в чем, а мама дарила нам любовь и ласку за двоих.
И когда он все-таки ушел к очередной молодой любовнице, мы все вздохнули с облегчением. На тот момент мы уже были практически взрослыми. Сестра и брат заканчивали школу. По стечению обстоятельств, мы были ровесниками, поэтому я тоже готовился к выпускным экзаменам в школе. Вот так, трое выпускников. Мы помогали друг другу, подтягивая по предметам.
Каждый из нас мечтал поступить в престижный институт. Отец, хоть и не был с нами ласков, но оплатить учебу обещал и сдержал свое слово. Мы поступили и выучились, получив те специальности, о которых мечтали.
А потом случилось так, что наш отец умер. После него осталось хорошее наследство.
Его последней любовнице не досталось ничего — она просто не успела его женить на себе. Ну а мы все стали полноправными хозяевами его фирмы и денежных счетов.
Мы продолжили развивать бизнес. И настал тот момент, когда нужно было ехать за границу, открывать новый филиал. Решили, что главным в том филиале буду я.
Я предложил забрать с собой нашу маму — она как никто другой, достойна была уехать в теплую страну. Мои сестра с братом, поддержали мою идею.
И вот настал тот момент, когда мы должны были уезжать. И тут вдруг нарисовалась моя родная мать. Я узнал ее сразу. Моя детская память запечатлела ее образ на долгие годы.
Она решила вдруг вспомнить обо мне, узнав, что я уезжаю:
«Сынок, я твоя настоящая мать! Неужели ты забыл меня? Ты стал таким взрослым.
А я так скучала и переживала, как ты живешь. Давай наконец-то будем жить вместе!»
Я поражен был ее наглостью:
«Конечно я помню тебя! Помню, как ты убегала от дверей, оставив меня совсем еще маленьким.
И ты мне не мать. Моя мама сейчас уезжает вместе со мной. А тебя я даже знать не хочу».
Развернулся и ушел. И ни капли не сожалею об этом.
Моя мама — та, что не побоялась взять ребенка своего мужа от посторонней женщины, воспитавшая меня в любви и ласке. Она сидела со мной, когда я болел, она была рядом когда мне первый раз разбили сердце, она успокаивала меня после ссор с друзьями, учила меня, прощала мне шалости и глупости, терпела мои капризы в подростковый возраст, никогда не напоминала, что я ей не родной. Для нее я стал сыном, для меня она стала мамой! Другой у меня нет!
Мы уехали с ней в другую страну. Там я встретил свою будущую жену, маме она понравилась и у них хорошие отношения. Мама не стала помехой моей личной жизни, более того, она отважилась устроить свою жизнь. Она встретила милого мужчину, я был только за. Она заслужила свое счастье! Сейчас мама много путешествует, часто навещает своих детей и внуков. Я смотрю в ее радостные глаза и понимаю — я рад, что она есть в моей жизни. Она мой ангел-хранитель!
08.08.2021, Новые истории - основной выпуск
Эту историю часто вспоминают в нашей семье.
Перед самой войной у моего дедушки открылась язва желудка. Больница была в соседнем районе и его лучший друг по весенней распутице всю ночь тащил умирающего деда на санках, приговаривая:
— Держись друг, держись!
Сам не верил, что довезёт его живым. Язва оказалась прободной, начался перитонит, операция была долгая, тяжёлая, но случилось чудо, дед выжил. А когда началась война, его не взяли на фронт по причине инвалидности.
У дедушки с бабушкой было четверо детей. Один мальчик умер от тифа осенью 1941 года. А зимой две трёхлетние девчушки-близняшки, Леночка и Раечка, опухли от голода и слегли.
В семье был любимый кот Васька. Он исправно ловил мышей и подкладывал их хозяевам на порог — отчитывался, что не дармоед. А ночью забирался в кровать к девочкам, ложился между ними, мурчал и грел их своим теплом. Девочки от слабости не могли даже поднять тонкие, как спички, ручки, чтобы погладить кота.
И вот пришёл ужасный день, когда одна из малышек, Раечка, умерла. Бабушка рыдала, проклиная войну. Кот забился в угол, понимая, что произошло что-то ужасное. Наутро он принёс в дом кусок чёрного хлеба и положил перед бабушкой: вот, мол, моя добыча. Бабушка не поверила своим глазам, а кот тёрся возле ног, как будто утешал её.
Бабушка размяла в кипятке хлебушек и накормила маленькую дочку. К вечеру Леночка улыбнулась и смогла погладить кота ослабевшей рукой. На следующий день кот приволок хвост от селёдки. бабушка плакала, нахваливая его. Она сварила рыбный бульон.
На третий день кот домой не пришёл. Оказалось, что еду он воровал на кухне у немцев. Они выследили его и прошили очередью из автомата. Раненого кота привязали к столбу и повесили табличку «ПАРТИЗАН». Согнали всех жителей и предупредили, что так будет с каждым, кто осмелится таскать еду партизанам.
Но оказалось, что Ваську не застрелили, а только ранили. Ночью, чуть живой, Васька каким-то образом освободился и приполз домой. И дед, под страхом смерти, спрятал его в корзинке под полом. Неделю дедушка пытался выходить кормильца. Шептал коту на ухо:
— Если я выжил, то ты и подавно оклемаешься, у котов ведь семь жизней, держись друг, держись, партизаны не сдаются.
Но раны были тяжёлые, кот не выжил. Дед похоронил Ваську за домом.
Вот так обыкновенный деревенский кот спас от голодной смерти маленькую девочку Леночку. Это была моя мама.
Олеся Афонская
Перед самой войной у моего дедушки открылась язва желудка. Больница была в соседнем районе и его лучший друг по весенней распутице всю ночь тащил умирающего деда на санках, приговаривая:
— Держись друг, держись!
Сам не верил, что довезёт его живым. Язва оказалась прободной, начался перитонит, операция была долгая, тяжёлая, но случилось чудо, дед выжил. А когда началась война, его не взяли на фронт по причине инвалидности.
У дедушки с бабушкой было четверо детей. Один мальчик умер от тифа осенью 1941 года. А зимой две трёхлетние девчушки-близняшки, Леночка и Раечка, опухли от голода и слегли.
В семье был любимый кот Васька. Он исправно ловил мышей и подкладывал их хозяевам на порог — отчитывался, что не дармоед. А ночью забирался в кровать к девочкам, ложился между ними, мурчал и грел их своим теплом. Девочки от слабости не могли даже поднять тонкие, как спички, ручки, чтобы погладить кота.
И вот пришёл ужасный день, когда одна из малышек, Раечка, умерла. Бабушка рыдала, проклиная войну. Кот забился в угол, понимая, что произошло что-то ужасное. Наутро он принёс в дом кусок чёрного хлеба и положил перед бабушкой: вот, мол, моя добыча. Бабушка не поверила своим глазам, а кот тёрся возле ног, как будто утешал её.
Бабушка размяла в кипятке хлебушек и накормила маленькую дочку. К вечеру Леночка улыбнулась и смогла погладить кота ослабевшей рукой. На следующий день кот приволок хвост от селёдки. бабушка плакала, нахваливая его. Она сварила рыбный бульон.
На третий день кот домой не пришёл. Оказалось, что еду он воровал на кухне у немцев. Они выследили его и прошили очередью из автомата. Раненого кота привязали к столбу и повесили табличку «ПАРТИЗАН». Согнали всех жителей и предупредили, что так будет с каждым, кто осмелится таскать еду партизанам.
Но оказалось, что Ваську не застрелили, а только ранили. Ночью, чуть живой, Васька каким-то образом освободился и приполз домой. И дед, под страхом смерти, спрятал его в корзинке под полом. Неделю дедушка пытался выходить кормильца. Шептал коту на ухо:
— Если я выжил, то ты и подавно оклемаешься, у котов ведь семь жизней, держись друг, держись, партизаны не сдаются.
Но раны были тяжёлые, кот не выжил. Дед похоронил Ваську за домом.
Вот так обыкновенный деревенский кот спас от голодной смерти маленькую девочку Леночку. Это была моя мама.
Олеся Афонская
Известный физик ядерщик Харитон рассказывал, что к нему обратились с вопросом о том, какое у него воинское звание, и состоит ли он на учете в военкомате. Но поскольку тогда воинские звания – а он был к тому времени уже главой Арзамаса-16, то есть, советского ядерного центра, и все эти армейские субординационные вещи происходили как-то автоматически, он ничего об этом не знал.
И вот Юлий Борисович Харитон, будучи очень ответственным человеком, с оттопыренными прозрачными ушками, в беретике, такой маленький-маленький, он пришел по месту прописки в Москве в военкомат. Он пришел, жмется – там здоровенный какой-то такой капитанище, который в этот момент по телефонной трубке болтает с возлюбленной, обсуждая, значит, ее коленки и задницу, и который при виде маленького Харитона в этом беретике сказал: ты погоди, сиди, дед, сиди.
Харитон подождал 10 минут, наконец снова сказал, что, вот, вы знаете, мне надо было бы узнать, в каком я звании и состою ли я на учете. Ему сказали: ну вам же сказали подождать, да? Харитон терпеливо ждет. Наконец прошло 40 минут, и капитан соблаговолил двинуть свою тушу туда в картотеку и в архив. А дальше, — Харитон рассказывает, — я услышал странные звуки. Я услышал, что что-то упало, потом я услышал топот.
Через несколько минут ко мне вышли перекошенные и белые начальник военкомата, совершенно белый капитан – у них у всех были приставлены к вискам руки. Они сообщили, что он находится в звании: «товарищ генерал!». Причем сам Харитон рассказывал это без особенных эмоций, поскольку значения таким мелочам не придавал.
Ю́лий Бори́сович Харито́н — советский физик-теоретик и физикохимик, д.ф.-м.н., академик АН СССР и РАН. Один из руководителей советского проекта атомной бомбы. Лауреат Ленинской и трёх Сталинских премий. Трижды Герой Социалистического Труда
И вот Юлий Борисович Харитон, будучи очень ответственным человеком, с оттопыренными прозрачными ушками, в беретике, такой маленький-маленький, он пришел по месту прописки в Москве в военкомат. Он пришел, жмется – там здоровенный какой-то такой капитанище, который в этот момент по телефонной трубке болтает с возлюбленной, обсуждая, значит, ее коленки и задницу, и который при виде маленького Харитона в этом беретике сказал: ты погоди, сиди, дед, сиди.
Харитон подождал 10 минут, наконец снова сказал, что, вот, вы знаете, мне надо было бы узнать, в каком я звании и состою ли я на учете. Ему сказали: ну вам же сказали подождать, да? Харитон терпеливо ждет. Наконец прошло 40 минут, и капитан соблаговолил двинуть свою тушу туда в картотеку и в архив. А дальше, — Харитон рассказывает, — я услышал странные звуки. Я услышал, что что-то упало, потом я услышал топот.
Через несколько минут ко мне вышли перекошенные и белые начальник военкомата, совершенно белый капитан – у них у всех были приставлены к вискам руки. Они сообщили, что он находится в звании: «товарищ генерал!». Причем сам Харитон рассказывал это без особенных эмоций, поскольку значения таким мелочам не придавал.
Ю́лий Бори́сович Харито́н — советский физик-теоретик и физикохимик, д.ф.-м.н., академик АН СССР и РАН. Один из руководителей советского проекта атомной бомбы. Лауреат Ленинской и трёх Сталинских премий. Трижды Герой Социалистического Труда
09.12.2020, Повторные анекдоты
Жизнь дачника - это постоянная борьба с соседскими детьми, которые считают его огород своим, и со своими детьми, которые считают его чужим.
01.08.2021, Новые истории - основной выпуск
В 2015 году произошла невероятно трогательная история с его участием. Началась она с того, что один мужчина поделился в сети своей историей:
"Сегодня мне исполнилось 30 лет, и все, чего я хотел - это посмотреть новый "Терминатор: Генезис" вместе со своим папой. "Терминатор 2" был моим первым в жизни фильмом. Меня на него сводил в кинотеатр мой отец. С тех пор мы с ним на пару посмотрели огромное количество кинокартин, включая все части "Терминатора", который стал нашей любимой франшизой. Моему отцу так понравилась легендарная фраза "I’ll be back", что он стал повторять ее постоянно. Я обязан ему своей любовью к кино, и эта любовь объединяла нас на протяжении долгих лет.
Несколько месяцев назад я стал замечать, что отец стал вести себя очень странно. Ему 72 года, и всю жизнь его мучили проблемы с психикой (деменция и шизофрения). Обычно их получалось держать под контролем, но в январе нынешнего года состояние начало резко ухудшаться. Он стал слышать голоса, вести себя необычно и порой агрессивно, перестал быть собой. Однажды его пришлось отправить в больницу. Оттуда он вернулся гораздо более спокойным, благодаря сильнодействующим медицинским препаратам, но совершенно другим человеком, очень тихим и апатичным. Как будто его память осталась на месте, а весь дух куда-то испарился. Последние три недели я решил побыть с ним, чтобы составить ему компанию. Он не хотел больше смотреть фильмы, и мне было ужасно больно видеть его таким.
Поэтому сегодня в свой юбилей я взял выходной и, как в старые добрые времена, устроил нам совместный поход на новую часть любимой франшизы. Во время сеанса произошло нечто удивительное. Когда на экране попытался улыбнуться "Т-800" в исполнении Арнольда, отец впервые за многие месяцы улыбнулся сам. Я так давно не видел искренней улыбки на его лице! Видеть, как мой отец улыбается после месяцев сплошной тоски - буквально лучший подарок на день рождения для меня.
В завершение мужчина поблагодарил актера, отметив его профиль: "Спасибо, Шварценеггер, что снова заставил моего папу улыбаться".
Пост быстро стал популярным и собрал почти 300 комментариев. Среди тех, кого тронула за душу эта поистине удивительная история, оказался сам "виновник" семейного счастья. Новость о чудотворной силе кинематографа застала голливудскую звезду в турне в Корее. Однако Арни нашел время и откликнулся на пламенную речь своего фаната. Он написал ответ и прикрепил записку от руки, адресованную его отцу:
"Для меня честь, что моя глупая улыбка в "Терминаторе" заставила вас улыбнуться, но я надеюсь, что вы сможете обрести настоящую радость и силу в своем удивительном сыне, которого Вы принесли в этот мир и вырастили. Арнольд".
"Сегодня мне исполнилось 30 лет, и все, чего я хотел - это посмотреть новый "Терминатор: Генезис" вместе со своим папой. "Терминатор 2" был моим первым в жизни фильмом. Меня на него сводил в кинотеатр мой отец. С тех пор мы с ним на пару посмотрели огромное количество кинокартин, включая все части "Терминатора", который стал нашей любимой франшизой. Моему отцу так понравилась легендарная фраза "I’ll be back", что он стал повторять ее постоянно. Я обязан ему своей любовью к кино, и эта любовь объединяла нас на протяжении долгих лет.
Несколько месяцев назад я стал замечать, что отец стал вести себя очень странно. Ему 72 года, и всю жизнь его мучили проблемы с психикой (деменция и шизофрения). Обычно их получалось держать под контролем, но в январе нынешнего года состояние начало резко ухудшаться. Он стал слышать голоса, вести себя необычно и порой агрессивно, перестал быть собой. Однажды его пришлось отправить в больницу. Оттуда он вернулся гораздо более спокойным, благодаря сильнодействующим медицинским препаратам, но совершенно другим человеком, очень тихим и апатичным. Как будто его память осталась на месте, а весь дух куда-то испарился. Последние три недели я решил побыть с ним, чтобы составить ему компанию. Он не хотел больше смотреть фильмы, и мне было ужасно больно видеть его таким.
Поэтому сегодня в свой юбилей я взял выходной и, как в старые добрые времена, устроил нам совместный поход на новую часть любимой франшизы. Во время сеанса произошло нечто удивительное. Когда на экране попытался улыбнуться "Т-800" в исполнении Арнольда, отец впервые за многие месяцы улыбнулся сам. Я так давно не видел искренней улыбки на его лице! Видеть, как мой отец улыбается после месяцев сплошной тоски - буквально лучший подарок на день рождения для меня.
В завершение мужчина поблагодарил актера, отметив его профиль: "Спасибо, Шварценеггер, что снова заставил моего папу улыбаться".
Пост быстро стал популярным и собрал почти 300 комментариев. Среди тех, кого тронула за душу эта поистине удивительная история, оказался сам "виновник" семейного счастья. Новость о чудотворной силе кинематографа застала голливудскую звезду в турне в Корее. Однако Арни нашел время и откликнулся на пламенную речь своего фаната. Он написал ответ и прикрепил записку от руки, адресованную его отцу:
"Для меня честь, что моя глупая улыбка в "Терминаторе" заставила вас улыбнуться, но я надеюсь, что вы сможете обрести настоящую радость и силу в своем удивительном сыне, которого Вы принесли в этот мир и вырастили. Арнольд".
15.05.2021, Новые истории - основной выпуск
— Эй, подожди! Что это у тебя сзади? — спросил пастух. Валико посмотрел, а штаны были порваны, оттого что съехал с горы. И сказал:
— Посмотри налево. Что ты видишь?
— Горы, — ответил пастух.
— Посмотри направо, что видишь?
— Горы.
— Наверх.
— Солнце.
— Вниз.
— Речка.
— Такая красота вокруг, а ты куда смотришь?
Эпизод, вырезанный из фильма "Мимино".
— Посмотри налево. Что ты видишь?
— Горы, — ответил пастух.
— Посмотри направо, что видишь?
— Горы.
— Наверх.
— Солнце.
— Вниз.
— Речка.
— Такая красота вокруг, а ты куда смотришь?
Эпизод, вырезанный из фильма "Мимино".
08.10.2021, Новые истории - основной выпуск
"Военно-полевой роман"
Сценаристом и режиссёром фильма стал фронтовик Пётр Тодоровский, а в основу сюжета легла реальная встреча. Уже после войны он случайно увидел около ЦУМа женщину, в которую на фронте был влюблён его комбат, а заодно и все юные солдаты — она была необычайно хороша собой. Сейчас же узнать её можно было только по характерному смеху… Женщина стояла в стоптанных валенках, укутанная поверх телогрейки какими-то платками и хрипло выкрикивала: «Пирожки! Кому пирожки?!». Рядом с ней сидела маленькая девочка. Тодоровский к бывшей «фронтовой королеве» не подошёл, но забыть встречу не мог долгие годы и всё представлял, как сложилась её судьба.
Через много лет после этой встречи Тодоровский написал сценарий «Военно-полевого романа», от которого отказывались все киностудии. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность, коммуналки и эхо войны. Согласилась запустить фильм только Одесская киностудия, но выделила на съёмки только 380 тысяч рублей.
В роли Любы режиссёр видел только Наталью Андрейченко, но её муж был против. Она недавно родила ребёнка, и Максим Дунаевский не хотел, чтобы жена так быстро приступала к работе… Начали искать замену и среди подходящих кандидатур были Анастасия Вертинская и Татьяна Догилева, но режиссёр не оставлял надежды уговорить Андрейченко. Однажды он наудачу позвонил ей ещё раз, и она согласилась, несмотря на недовольство мужа — самой актрисе сценарий очень нравился.
На роль Саши Нетужилина режиссёр пригласил Николая Бурляева. Актёр за ночь прочитал сценарий и потом рассказывал, что буквально обливался слезами — настолько его проняла история этой послевоенной встречи. Ради роли в этом фильме он был готов даже отложить запуск собственной картины. С утра Бурляев прибежал на пробы, увидел в коридоре Петра Тодоровского, обнял его и сказал: ««Кончайте пробы! Эту роль я никому не отдам». И пробы, действительно, закончили. И когда уже после выхода картины иностранные журналисты спросили актёра есть ещё такие люди как Нетужилин, то Бурляев ответил, что таких — вся страна. Нетужилина Тодоровский сначала хотел сыграть сам, но помешал солидный возраст, потом рассматривал кандидатуру Виктора Проскурина, но в результате отдал ему другую роль.
Сами попросились в фильм фронтовик Зиновий Гердт и Всеволод Шиловский. Прихрамывающий Гердт говорил другу-режиссёру: «В любом твоем фильме я сыграю что угодно. Скажешь сыграть лошадь — сыграю. Только учти — она будет хромать на левую заднюю». Специально для актёра в «Военно-полевом романе» появилась небольшая роль администратора кинотеатра. Всеволод Шиловский выпросил для себя роль дяди Гриши. Тодоровский удивился — зачем ему этот неприятный герой, да ещё и съёмок всего два дня… Шиловский ответил, что один «лейтенант Тодоровский» сам ему рассказывал про молодых людей, которые вернулись с фронта и оказались никому не нужны. И он хочет у «лейтенанта Тодоровского» сыграть именно такого персонажа.
Текст заглавной песни «Рио-Рита» написал Геннадий Шпаликов. Музыку к ней написал режиссёр Пётр Тодоровский, вдохновлённый одноимённым пасадоблем 30-х годов — эта мелодия была очень популярна перед войной. Много лет спустя Тодоровский снял военную драму под названием «Риорита», которая стала его последней работой в кино. В фильме песня звучит в исполнении Павла Смеяна.
Готовый материал Тодоровский привез в Москву — показывать худосовету на «Мосфильме». Цензура потребовала вырезать упоминание о репрессированных родителях Веры, которую играла Инна Чурикова, и убрать из фильма соседа-гэбэшника. Сосед остался в эпизоде, но подсматривать и подслушивать за героями перестал — эти сцены пришлось вырезать.
В 1983 году «Военно-полевой роман» был номинирован на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, но статуэтка ушла швейцарскому режиссёру за шахматную драму «Диагональ слона» о противостоянии СССР и Запада. Зато на международном фестивале в Испании фильм получил приз за лучший сценарий и Инне Чуриковой вручили награду за исполнение женской роли второго плана, а на кинофестивале в Берлине Наталья Андрейченко получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.
Сценаристом и режиссёром фильма стал фронтовик Пётр Тодоровский, а в основу сюжета легла реальная встреча. Уже после войны он случайно увидел около ЦУМа женщину, в которую на фронте был влюблён его комбат, а заодно и все юные солдаты — она была необычайно хороша собой. Сейчас же узнать её можно было только по характерному смеху… Женщина стояла в стоптанных валенках, укутанная поверх телогрейки какими-то платками и хрипло выкрикивала: «Пирожки! Кому пирожки?!». Рядом с ней сидела маленькая девочка. Тодоровский к бывшей «фронтовой королеве» не подошёл, но забыть встречу не мог долгие годы и всё представлял, как сложилась её судьба.
Через много лет после этой встречи Тодоровский написал сценарий «Военно-полевого романа», от которого отказывались все киностудии. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность, коммуналки и эхо войны. Согласилась запустить фильм только Одесская киностудия, но выделила на съёмки только 380 тысяч рублей.
В роли Любы режиссёр видел только Наталью Андрейченко, но её муж был против. Она недавно родила ребёнка, и Максим Дунаевский не хотел, чтобы жена так быстро приступала к работе… Начали искать замену и среди подходящих кандидатур были Анастасия Вертинская и Татьяна Догилева, но режиссёр не оставлял надежды уговорить Андрейченко. Однажды он наудачу позвонил ей ещё раз, и она согласилась, несмотря на недовольство мужа — самой актрисе сценарий очень нравился.
На роль Саши Нетужилина режиссёр пригласил Николая Бурляева. Актёр за ночь прочитал сценарий и потом рассказывал, что буквально обливался слезами — настолько его проняла история этой послевоенной встречи. Ради роли в этом фильме он был готов даже отложить запуск собственной картины. С утра Бурляев прибежал на пробы, увидел в коридоре Петра Тодоровского, обнял его и сказал: ««Кончайте пробы! Эту роль я никому не отдам». И пробы, действительно, закончили. И когда уже после выхода картины иностранные журналисты спросили актёра есть ещё такие люди как Нетужилин, то Бурляев ответил, что таких — вся страна. Нетужилина Тодоровский сначала хотел сыграть сам, но помешал солидный возраст, потом рассматривал кандидатуру Виктора Проскурина, но в результате отдал ему другую роль.
Сами попросились в фильм фронтовик Зиновий Гердт и Всеволод Шиловский. Прихрамывающий Гердт говорил другу-режиссёру: «В любом твоем фильме я сыграю что угодно. Скажешь сыграть лошадь — сыграю. Только учти — она будет хромать на левую заднюю». Специально для актёра в «Военно-полевом романе» появилась небольшая роль администратора кинотеатра. Всеволод Шиловский выпросил для себя роль дяди Гриши. Тодоровский удивился — зачем ему этот неприятный герой, да ещё и съёмок всего два дня… Шиловский ответил, что один «лейтенант Тодоровский» сам ему рассказывал про молодых людей, которые вернулись с фронта и оказались никому не нужны. И он хочет у «лейтенанта Тодоровского» сыграть именно такого персонажа.
Текст заглавной песни «Рио-Рита» написал Геннадий Шпаликов. Музыку к ней написал режиссёр Пётр Тодоровский, вдохновлённый одноимённым пасадоблем 30-х годов — эта мелодия была очень популярна перед войной. Много лет спустя Тодоровский снял военную драму под названием «Риорита», которая стала его последней работой в кино. В фильме песня звучит в исполнении Павла Смеяна.
Готовый материал Тодоровский привез в Москву — показывать худосовету на «Мосфильме». Цензура потребовала вырезать упоминание о репрессированных родителях Веры, которую играла Инна Чурикова, и убрать из фильма соседа-гэбэшника. Сосед остался в эпизоде, но подсматривать и подслушивать за героями перестал — эти сцены пришлось вырезать.
В 1983 году «Военно-полевой роман» был номинирован на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, но статуэтка ушла швейцарскому режиссёру за шахматную драму «Диагональ слона» о противостоянии СССР и Запада. Зато на международном фестивале в Испании фильм получил приз за лучший сценарий и Инне Чуриковой вручили награду за исполнение женской роли второго плана, а на кинофестивале в Берлине Наталья Андрейченко получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.
Byram (504)